V
Как уже указано нами, для католической церкви знание не стоит особняком от жизни и деятельности, а напротив, обусловливает собою и жизнь, и деятельность. Жизнь во Христе невозможна не только без субъективной веры, но и без обладания объективною верою, т. е. без знания догмы, хотя бы это знание и осуществлялось (что возможно только в церкви) в форме потенциальной (с объективной своей стороны) веры, в форме "fides implicita". He отрицая ни мистики, ни науки, даже покровительствуя им, католичество тем не менее в общем отграничивает себя от чрезмерной созерцательности, свойственной восточному христианству, и от чрезмерной научности, свойственной протестантству. В этом обнаруживается некоторая историческая односторонность католичества, коренящаяся в самой его природе. Для католичества важна догма в ее претворении в жизнь, в ее утверждении деятельностью.
В христианском идеале заключено единство знания и жизни: вся жизнь должна покоиться на религиозном знании и все религиозное знание осуществляться в жизни и деятельности. Но исторически в настоящее время лишь часть христианской догмы уже обнаружила свое жизненное значение. Только поэтому ведь и возможно отрицание протестантством многих глубочайших истин учения Христа, а всякая церковь стоит перед дилеммою ухода в созерцательную и рационалистическую сторону религии, с одной стороны, или ухода в деятельную сторону, с другой. Последнее характерно для католичества. Католичество подходит к догмам главным образом со стороны их жизненного значения (чем я вовсе не хочу сказать, что оно подчиняет догмы религиозной практике или умаляет их самоценность), и это производит такое впечатление, будто для католичества догмы нечто вроде законов для государства, которым необходимо повиноваться (= верить им), но которых вовсе не надо понимать и даже знать: учение о потенциальной вере (fides implicita) по внешности вполне аналогично отношению гражданина к законам (незнанием их нельзя отговариваться, но достаточно их не нарушать).
На самом деле суть, конечно, не в юридическом формализме католичества, а в обращении его к деятельной стороне религии: юридический формализм, к тому же сильно преувеличенный, только внешняя оболочка, несущественная форма, выражающая дух. В силу тех же причин католичество в своей догматике выделяет обладающие практическим, жизненным значением стороны, ограничиваясь в отношении остального строго необходимым. И через обстоятельнейшую разработку и систематизацию практической стороны христианства оно опять-таки приходит к идее церкви.
С самых начал своих западная церковь отстала от восточного умозрительного богословия, что обыкновенно объясняют умственною отсталостью Запада вообще. Она не только сосредоточила идею кафоличности в идее всего человечества, но и обратилась в лице крупнейшего своего богослова — Августина к изучению человека, к постижению души и Бога, "ничего более". Психология, этика, учение об обществе, о государстве Божьем — таковы главные вопросы, занимавшие западную мысль. Очень быстро догматическая жизнь Запада упрощается, становится элементарной, и Августин переводится на язык Григория Великого. На долгое время все христианское учение на Западе как бы превращается в "fides implicita", и это происходит в тот самый момент, когда на Востоке идет напряженное изучение самых трудных и основных вопросов догмы. Странным образом, несмотря на меньшую разработанность своей догмы, несмотря на неясность ее для ее же хранителей — римских пап, Запад все-таки сохраняет руководящее или регулирующее значение в догматической истории христианства и своею непреоборимою верностью традиции выделяется как краеугольный камень церкви Христовой. На наших глазах как бы историей всей церкви, а не жизнью отдельных лиц, оправдывается и обосновывается смысл и значение потенциальной веры (fides implicita).
Платоновское и новоплатоновское умозрения в общем Западу чужды. Кроме Августина, для ранней эпохи можно указать, пожалуй, только на Боэция. Позже, в IX веке Иоанн Скот Эриугена пытается объединить августинство с новоплатоновским богословием Востока и делает доступными Западу Дионисия Ареопагита, частью — Максима Исповедника и Григория Нисского. В начальный период схоластики еще появляются попытки систематизации богословия на почве новоплатоновских идей, даются наброски систем и кладутся основания мистике и мистическому богословию. Но, начиная с XIII века, мы находим платоновские влияния только в мистике, и Запад окончательно отделяется от Востока. Богословие решительно переносится на почву аристотелизма, и первая и наиболее полно разработанная система католичества выражается в формах и на языке Аристотеля, на языке здорового человеческого разума. За отдельными, хотя и блестящими исключениями, католическая наука всегда оставалась наукою, идущею за Аристотелем. Признание со стороны Льва XIII руководителем католической мысли Фомы Аквинского, от которого, по выражению Пия X, "нельзя, особенно в вопросах метафизических, отступать без великого ущерба для дела", расцвет так называемого неотомизма в современном католическом богословии — естественное завершение развития католической догмы. Суть не в том, что на языке Фомы Аквинского и вообще аристотелевской схоластики привыкли выражаться католики, а в том, что аристотелизм своею обращенностью к земле и человеку лучше соответствует духу католичества.
Католическое богословие пережило период угнетения под давлением идей "Просвещения", английского деизма, немецкой "критической" философии. Но уже с эпохи Ватиканского собора и энциклики Льва XIII "Aeterni Patris" (1878 г.) начинается новый период расцвета в разработке богословской науки. Многое в ней еще не определилось, многое "становится". — Умеренная, близкая во многом к протестантской науке тюбингенская школа, нетерпеливая и стремящаяся выразить догму на языке самой современной науки — вплоть до Бергсона, часто уходящая в крайности "модернизма" деятельность ряда французских богословов, кропотливая и наиболее верная католическому традиционализму работа неотомистов — таковы главные черты современного богословского движения в католичестве. Но ближайшее будущее этого движения несомненно правильно предуказано и понято лозунгом — "Назад к Фоме!"
Развитие философии и естественных наук поставило перед католическим богословием целый ряд новых и трудных проблем. — Приходится пересматривать и видоизменять доказательства бытия Божьего, причем характерным является более чем сдержанное отношение к онтологическому доказательству Ансельма Кентерберийского и к августиновским соображениям о высшей истине, высшем благе, высшей красоте, "которые могут дать интеллектуальное удовлетворение только приученному к возвышеннейшей метафизике уму". Рядом с этим стоят попытки примирить христианское учение с умеренным пониманием дарвинизма и новыми теориями происхождения мира. Еще оживленнее работа в области церковной истории: в защите текста Евангелия от выводов современной, преимущественно протестантской критики и богодухновенности Св. Писания вообще, для чего приходится уже несколько по-иному понимать самое богодухновенность. "История церкви,— пишет Лев XIII,— зеркало, в котором отражается жизнь церкви... Изучающие ее не должны никогда терять из виду, что она скрывает в себе совокупность догматических фактов... Эта направляющая и сверхъестественная идея, управляющая судьбами церкви, в то же самое время и факел, свет которого озаряет ее историю. Но во всяком случае и потому, что церковь, продолжающая среди людей жизнь воплощенного Слова, включает в себя и человеческий элемент, учителя должны его излагать, а ученики изучать с большою добросовестностью. Сказано в книге Иова: "Не нуждается Бог во лжи нашей".
Рассматриваемое извне, католическое богословие связано своими основными догматическими предпосылками и кажется несвободным. Но внутренне этою связанностью и обусловливается настоящая свобода. Свобода исследования не может означать свободы от принципов и границ познания. Отбрасывающий абсолютные истины, как исходный пункт своего исследования, вовсе не свободен: он раб относительного. Отрицающий во имя науки историчность Христа, воплощение Бога, как действительный исторический факт, только кажется свободным. Он признал для себя необязательной абсолютную истину, но зато рабски подчинился князю века сего — относительной, позитивной науке. Он служит не Богу, а рабу, рабствует в относительном, тогда как подчиняющий себя непререкаемой абсолютной истине в своем служении ей возвышается над относительным, приобретает всю полноту достижимой для человека свободы. Обвинения католичества в принципиальном отрицании свободы исследования одно из самых крупных и наивных недоразумений, основанное на предположении, что возможно вообще беспредпосылочное исследование и что нет абсолютной истины. И это обвинение направлено вовсе не против католичества, а против христианства, даже против истинной религии, т. е. совокупности абсолютных ценностей вообще, как бы мы такую религию не называли. Допустите, хоть на одно мгновение, что католическое учение — абсолютная истина. Тогда вы поймете внутреннюю правду католиков, утверждающих, что только в католичестве возможно истинно свободное исследование, истинно свободная наука.
Поскольку дело касается принципов, спора, как нам кажется, быть не может. Но совершенно иной вопрос — стеснялали когда-нибудь и стесняет ли ныне свободу исследования католическая церковь. Это вопрос факта. И ответ на него должен быть положительным. — Да, католичество фактически стесняло и стесняет свободное исследование, ограничивает свободу ученой и богословской работы. Прежде такое стеснение выражалось в формах насильственного воздействия вплоть до костра. Теперь оно сводится к моральному давлению и по природе своей ничем не отличается от давления общественного мнения, "выводов науки", "научного миросозерцания" и т. п. Религиозная терпимость не может довести до признания одинаковой ценности всех, даже противоположных религиозных учений. Тогда она стала бы из религиозной терпимости нерелигиозным равнодушием. О догматически-теоретической веротерпимости говорить совершенно бессмысленно. Можно говорить лишь с нравственно-практической терпимости, т. е. о принципиальном воздержании от насилия в применении к инаковерующим. Да и то остается еще нерешенным вопрос о праве морального давления, которое необходимо, если церковь учительница и воспитательница человечества.
Фактически перед католичеством стоит очень трудная проблема. Учение церкви всегда одно и то же, всегда абсолютно истинно. Но выражено это учение в относительных и меняющихся понятиях человеческого языка. Существо его не в форме, а в духе, и, следовательно, изменение форм вполне допустимо, чем и обеспечивается постоянное развитие католической догмы. Однако практически грань между изменением по форме и изменением по существу неуловима И христианство поневоле поставлено перед необходимость выбора между поспешным изменением формы с рисков временно исказить существо своего учения и принципиальным консерватизмом, сохраняющим старую форму до той поры, пока она оказывается явно непригодною. Естественно что католичество стоит на второй точке зрения.
Католичество совсем не отрицает развития догмы, но оно не может вместе с модернистом Луази видеть сущность христианства в развитии как таковом. Напротив, для католичества само развитие заложено в сущности христианства Развитие это есть не что иное, как постоянный прогресс как постоянное развертывание неизменного в своем существе, раскрытие и обнаружение нового, заключенного истинности старого. Пышное дерево, широко раскинувши свои листья, не отрицает своим расцветом того зерна, из которого оно вышло и в котором потенциально и истинно заключалось. Так и современная католическая догма потенциально заключена во всех предшествующих стадиях своего развития и ни одной из них не противоречит. Католичество не только не отрицает идеи развития, но немыслимо без нее построено на идее органического развития или заключает ее в самом существе своем.
Католичество не отрицает и не может отрицать развития богословия и науки уже по одному тому, что наука — одна из высших форм человеческой деятельности, а католичество стремится освятить, религиозно понять и преобразовать всю жизнь. Оно стремится к целостному знанию, которое насквозь должно быть религиозным. И если сейчас еще непонятно религиозное значение какой-нибудь кристаллографии, то — вне всякого сомнения, эта непонятность — временная и преходящая. И, опережая ход времен, католичество в лице видных представителей своего духовенства уходит в подлинную ученую работу, и почти всякая отрасль науки насчитывает в среде своих работников много католиков, приступающих к самоотверженному ученому труду в религиозном сознании его важности и нужности для преуспеяния церкви Божией. Пускай иногда человеческое, слишком человеческое нетерпение гоняется за наивными задачами доказать ту или иную религиозную истину доводами математики или кристаллографии. Подобные попытки отражают религиозное умонастроение отдельных католиков, трогательную их веру в истину христианства, но не выражают принципиального значения всякого знания в системе католичества.
Принципиальную широту католичества в отношении его к науке и богословию следует отличать от психологической ограниченности исторического католичества, в силу которой, сосредоточиваясь на человеческом, оно не дает равномерно развитой догматической системы. Даже средневековая аристотелевская схоластика, стремясь охватить всю догму, ограничила себя приемами и заданиями человеческой науки, и не случайно, что в современной католической догматике наименее разработанным является учение о Логосе, предполагающее новоплатоновскую метафизику.
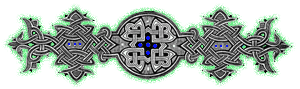
|